“Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…”
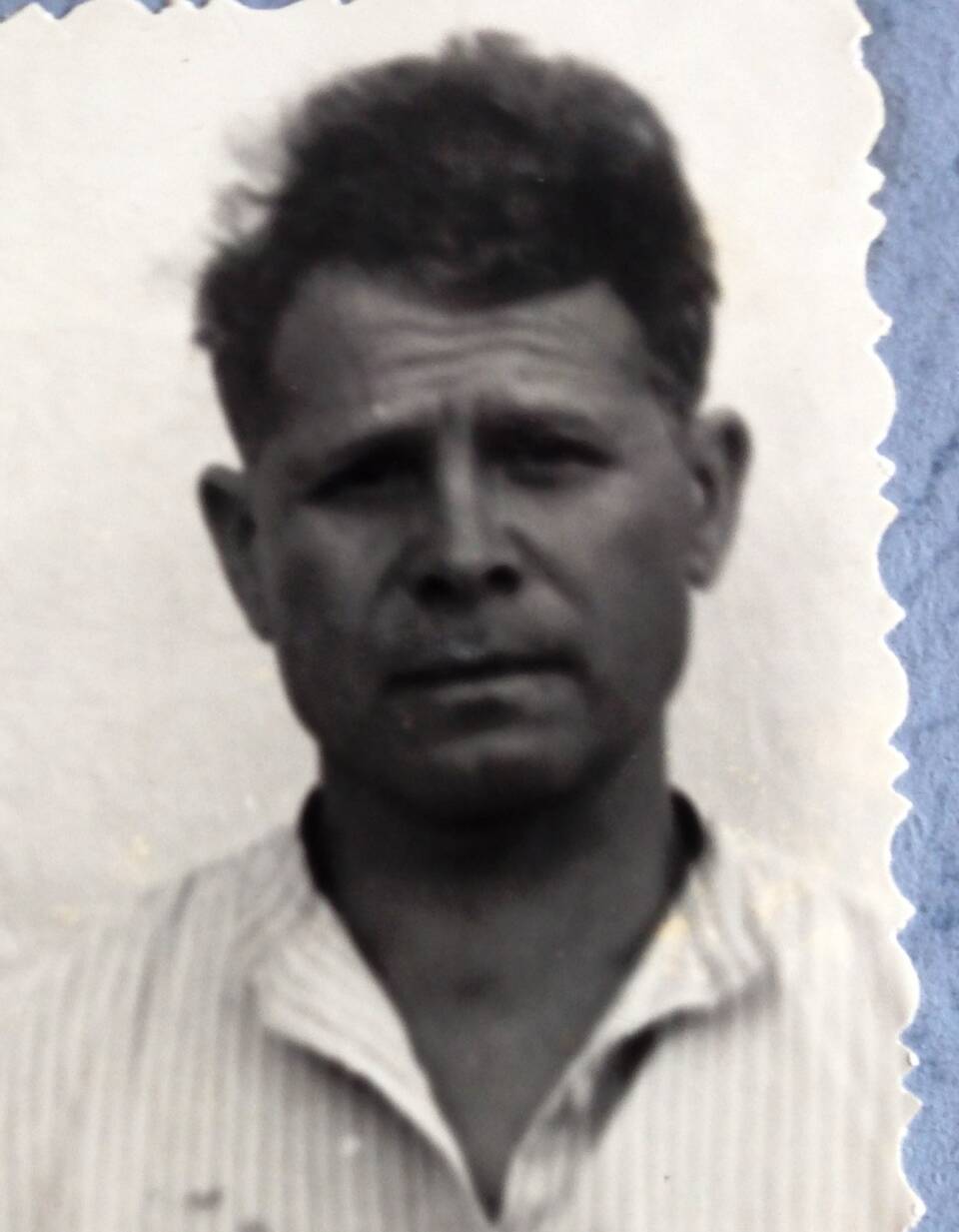
Год народного единства
Мой дед Николай Николаевич Селицкий родился в 1905 году в местечке Фаличи. После смерти отца как старшему мужчине в семье пришлось идти работать. А было ему тогда 13 лет. Позже выучился на механика, попал на железную дорогу, стал машинистом паровоза. В предвоенные времена это была весьма уважаемая профессия. К началу войны у деда были уже свой дом в Осиповичах, жена и четверо деток, в том числе и моя 9-летняя тогда мама…
Вскоре война накрыла Белоруссию оккупацией. Фашистам нужны были квалифицированные рабочие руки, в том числе и на железной дороге. И дед продолжил работать в своем депо, но уже на немцев. Отвернувшимся соседям было невдомек, что это было сделано по заданию подпольного комитета и партизанского командования, которым очень нужны были сведения о перемещениях фашистских войск по железной дороге. Конечно, об этом не знал никто, кроме бабушки Ефросиньи Мироновны и старшего сына Анатолия. Дядя Толя — добродушный весельчак, который на моей памяти всегда шутил и смачно курил папиросы «Прима». Тогда, в 12 лет, в каблуке его обуви был тайник, где он прятал записки с важными сведениями о фашистах, а затем передавал в партизанский отряд.
Так случилось, что в 1944 г. фашисты арестовали одного из подпольщиков Васю Белолипецкого, знавшего о дедовой работе. Боясь, что в гестапо из Васи выбьют нужные сведения, руководство подполья дало команду деду и некоторым другим участникам сопротивления немедленно уйти в лес. К чести Василия, позже выяснилось: он не выдал никого, заплатив за это своей жизнью…
Сделали так: дед заменился и срочно ушел в рейс, той же ночью всю его семью тайно переправили к партизанам.
Немецкое руководство не доверяло составы местным железнодорожникам, потому машинистом паровоза всегда был немец, а дед — помощником, который выполнял всю работу вместе с кочегаром, третьим членом паровозной бригады. В этом последнем рейсе дед с напарником «нейтрализовали» немца, перед станцией разогнали до максимальной скорости состав с грузом для фашистских войск и спрыгнули с паровоза. К сожалению, кочегар разбился насмерть, деду повезло: он остался жив, но получил сильные ушибы и серьезно обварился кипятком и паровозным паром.
Партизаны нашли деда и доставили в отряд. Там его долго лечили травами и мазями, а чтобы затягивающаяся после ожогов кожа не лопалась от движений, держали в подвешенном среди деревьев гамаке. С тех пор у него, кроме оглохшего левого уха, осталась местами розовая и нежная кожа на лице.
Когда я стал постарше, как-то попросил деда рассказать о войне. Очень мне хотелось услышать о геройствах и подвигах. А он, как практически все прошедшие войну ветераны, долго отнекивался. Я простодушно настаивал: дед, ну расскажи хоть, что тебе больше всего запомнилось! Он долго молчал, а потом сказал: «Помню, внучек, мне было очень страшно. Ведь если бы попался, ладно меня, всю семью фашисты замучили бы». Мы долго молчали, и уже я не знал, что сказать…
Моя мама Галина Николаевна рассказывала, что когда говорили о войне и ее участниках и хотели высказать уважение деду, он всегда как-то стеснялся и даже робел: «Да что я, ничего особенного, это другие действительно герои…»
А еще мама говорила, что хорошо помнит, как ее мама и папа во время оккупации прятали и переправляли к партизанам еврейские семьи с детьми, спасая их от смерти. Однажды поздно вечером из погреба, где их прятали весь день, вывели очередную еврейскую семью, чтобы накормить. После ужина Галя тихонечко спросила маму: «Почему мне дали меньше вареной картошки, чем девочке Соне из погреба, я же твоя дочка?» Ефросинья Мироновна так же шепотом ей ответила: «Дочушка, я могу положить тебе больше, чем Софочке, но тогда завтра придется тебе весь день сидеть в погребе вместо нее». Мама часто вспоминает этот урок мудрости и доброты.
На какой-то юбилей Дня Победы деда наградили орденом Отечественной войны. Он лежит у меня в коробочке рядом с пожелтевшей справкой, выданной деду 4 июля 1944 г. командиром партизанского соединения Осиповичского подпольного РК КП(б)Б Могилёвской области капитаном Глотовым о том, что: «Тов. Селицкий Николай Николаевич <…> занимал должность: связной Осиповичского партизанского соединения. На боевом счету имеет <…>. Предоставлял сведения о гарнизоне противника г. Минск». Как много в этих и им подобных скупых казенных строках. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»…
Мы помним. И разбомбленный дом деда, который они с бабушкой после войны выстроили заново. И замученного в гестапо Васю Белолипецкого. И фронтовые ордена Славы и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» выживших и вернувшихся с той войны дядьев и тестя, их нашивки за ранения и редкие немногословные рассказы. И еще многое и многих…
Я люблю и помню тебя, дед. Я люблю и помню тебя, моя бабулечка!
Для меня вы и есть те самые скромные настоящие герои, которые и в тылу врага сражались за Победу, делая то самое «ничего особенного», которое помогло нашему народу выстоять и победить в злой и страшной войне. И я всё помню. А еще я не забыл, не забуду и не прощу тем, кто тогда пришел с войной на мою Родину, а сейчас хочет нас «жизни учить». Лучше учитесь сами. И лучше без нас!
А мы будем гордиться нашей историей и нашими предками. Жить. И помнить…
Сергей Ткачёв,
г. Санкт-Петербург.
